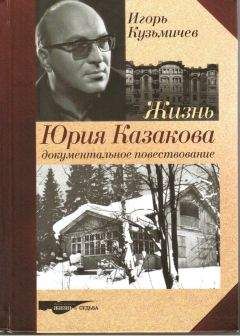Я был в Архангельске зимой, и все дни, которые я там провел, слились у меня в один морозный красный день. Впервые я приехал в Архангельск зимой, впервые переходил Двину пешком — мост тогда был еще не достроен, он рос на моих глазах, сначала из воды торчали только верхушки устоев, потом они поднимались все выше с каждым годом и уже обрастали стальными фермами, но в ту зиму мост еще не был готов, — шел я пешком по заледенелой тропе вечером к далеким огням города, и так была широка Двина, что мне временами казалось, что я никогда не дойду до огней. Слева на меня все подувало морским ветром, и было тепло, сыровато даже. А утром грянул мороз.
Город был завален снегом. Деревья были толсты от инея. Трамваи почти не ходили, редко-редко красный храбрец, подпрыгивая и визжа, влачился по нескончаемой улице Павлина Виноградова. У остальных перестали открываться двери и вертеться колеса от мороза. Автомашины шли каждая в облаке пара, как паровозы. Девушки поснимали свои модные пальтишки, надели валенки и полушубки. Больше двухсот метров нельзя было пробежать по улице, и в магазинах было особенно много народа — отогревались. На замерзшем ледяном поле Двины, на его белизне впаяны в лед были желтые, белые, черные туши пароходов. Все корабли извергали к небу розовые облака пара. И то один, то другой начинали вдруг задумчиво, густо гудеть. Почему они гудели зимой? Я этого и до сих пор не знаю...
Солнце было красное и в полдень висело где-то над Кег-островом, над самым горизонтом. И все дома, все деревья в инее, все заснеженные снегом крыши были красны. Солнце стояло в полдень так же низко, как летом в полночь где-нибудь под Амдермой. Воздух состоял из тончайшей розовой пыли. Это была ледяная пыль. Над головой то и дело рокотали пролетающие вертолеты, но их не было видно за ледяной дымкой. Голубое небо просвечивало сквозь розоватость, но вертолеты не были видны... Зима! Я потом улетел на Белое море, на зверобойку, две недели летал с вертолетчиками надо льдами, две недели видел, как бьют тюленей, видел сверху кровавые тропинки к ледовым лагерям, потом высажен был на льдине возле шхуны «Моряна», перебрался на шлюпке через разводье, влез через борт на скользкую от жира палубу, и для меня началась новая жизнь.
После каждого приезда я писал что-нибудь о Севере. Мои очерки стали переводить на всевозможные языки. Чего скрывать — писателю приятно, когда его читают в Италии, в Америке, во Франции. Но тут, честное слово, мне было более радостно за моих героев! Северные фамилии их — Малыгин, Котцов, Жуков, Попов — появлялись на шведском, датском, немецком и прочих языках, и как же мне приятно было думать о том, что сидит сейчас где-нибудь в Праге или в Марселе какой-нибудь мой читатель, попивает себе там бордо или кальвадос и читает про поморов, на свой испанско-английский лад выговаривая наши имена.
Я не мог пользоваться всем этим богатством, которое каждый раз открывалось передо мной, мне нужно было приобщить к своему счастью кого-нибудь, и я в очередную поездку на Север взял с собой Женю Евтушенко. Ах, думал я, пусть он напишет о Севере стихи! Мы были вместе в Архангельске два раза, и оба раза на нас обрушивалось столько впечатлений, что мы прямо-таки стонали от наслаждения, клянясь друг другу не забывать Север. И я рад еще был просто за поэзию, потому что Евтушенко после многих своих американских и парижских стихов написал потом обширный цикл стихов о Севере. «Ночи Архангельска — сплошное быть может...», «Она из Амдермы кричала, сквозь ветер, льды и лай собак...». Будь моя воля, я бы посылал по очереди на Север всех самых талантливых московских поэтов и прозаиков.
Никогда не забуду нашего ночного отхода в Карское море на зверобойной шхуне «Моряна». В час ночи отошли от Холодильника, и во все время, пока она шла двинским фарватером, мы не спали. Как сначала тихо, почти нежно двигалась она, как потом развила ход до полного, как плавно поворачивала, следуя фарватеру, как капитан Саша Матвеев, нахохлившись, в дождевике почему-то, хоть небеса были чисты, стоял наверху, на ходовом мостике, и похаживал и поглядывал вперед, то с одной, то с другой стороны, и как время от времени покрикивал в переговорную трубу в рубку: «Лево руля!», «Еще левей!», «Одерживай!» — и как печально и важно гудели нам то от одного, то от другого пирса огромные корабли, гудели нашей крошечной шхуне, идущей во льды, к Новой Земле и Диксону, прощались с нами, желали попутного ветра, и мы им отвечали!
Проснувшись на другой день, я подумал сначала, что мы еще по Двине идем, так ровен и плавен был наш ход. Но уж мы были в море, давно прошли Зимнегорский маяк, прошли Вепревский...
— Гляди, Юра, скоро Золотица, где мы с тобой зимой были, — сказал прекрасный наш стармех, Илья Николаевич Попов. — А вы еще не завтракали, ребята? Так идите скорей, на камбузе, едри его мать, пошарьте!
Так началась наша жизнь на водах. А помнишь, Илья Николаевич, как мы с тобой сидели на льдине в Карском, как стреляли по несметным уткам, как орали на весь ледовитый океан: «Попал!» — «Нет, это я попал, едри ее мать!»?
И все-таки нету времени в Архангельске лучше лета! Какое солнце, какие розовые ночи, какая жара! В Двине купаются ночью, на вокзалах столпотворение, время летних отпусков, на рынке, в магазинах помидоры, яблоки, черешня, асфальт плавится, все ищут тени, весь архангельский рейд занят судами всех стран, грузят лес, приходят из Атлантики тральщики, уходят в море экспедиционные суда.
В июле трогаются в путь рыбаки и зверобои — туда, во льды, к вечному солнцу. Как летом многолюдно в ресторанах, какие прощания за столиками — еще бы, многие уходят на два, на три месяца! — какие встречи: «Здорово, откуда? Куда?» — витают в воздухе головокружительные названия морей, островов и портов! И вы можете подкатить с компанией друзей-моряков к ресторану «Север», уже отрешась от берега, уже простившись мысленно со всем любимым и дорогим, но поднимите немного глаза — мемориальная доска: от этого пирса пятьдесят лет назад уходил на «Св. Фоке» к Северному полюсу Георгий Седов! И сидят потом моряки за чистыми столиками, в кителях, в рубашечках, при галстуках, еще бы — не на вахте! — чокаются нежно друг с другом, любят друг друга, впереди долгая дорога, и впереди еще два часа до отдыха. А потом мчатся по городу такси, ах, куда же они мчатся ночью или на рассвете? — на Факторию, к Холодильнику, на другую сторону, к угольному порту или в Соломбалу; выскакивают на берег, зорко выглядывают свое судно, свой дом. А потом уходят на Север, в свет, в чистоту — и по всей Двине то тут, то там раздаются долгие прощальные гудки кораблей, и просыпается тогда оставшийся на берегу, и сердце его мучительно сжимается от грусти, от зависти, от зова дальних далей...
Нет! Не ездите вы на Север, не губите себя! Всю жизнь тогда не будет он давать вам покоя, всю жизнь будет то слабо, то звонко манить к себе, всю жизнь будет видеться вам просторный город — преддверие неисчислимых дорог. Эх! Маху дал наш Петр Великий — не на Неве ему строить было свой парадиз, на Двине!
1966
Мальчик из снежной ямы[ 17 ]
Осенью 1960 года, солнечным днем, плыл я на катере по Оке — от Тарусы в сторону Алексина.
Я сидел на верхней палубе, глаз не мог оторвать от багряных, лимонных, оранжевых и шафранных берегов и чувствовал себя счастливым.
День стоял солнечный, жаркий, не верилось даже, что через несколько дней придет октябрь. И еще мне весело было оттого, что ехал я в крохотную деревеньку, где посчастливилось мне снять на осень избушку.
Избушка была мала и так стара, что на тесовой ее крыше давно уж цвел мох. За водой надо было ходить далеко, к самой Оке, к роднику, за дровами тоже нужно было идти в лес и тащить потом за плечами добрую вязанку.
Но это-то и было хорошо! Зато в избушке был стол, было деревянное старое, какое-то ямщицкое кресло, в котором спинкой служила дуга, и электричество было, хоть деревенька и состояла из пяти дворов, — чего же мне было еще нужно!
А главная моя радость состояла в том, что наконец-то я буду один, разложу свои записки, стану работать... Мне не терпелось сесть за стол.
Незадолго до этого месяца полтора ходил я по Северу, по Белому морю, жил по нескольку дней в разных деревнях, жадно расспрашивал каждого о чем придется, нисколько не стыдясь своего неведения, своей наивности, пока не понял вдруг, что чуть не каждый человек, родившийся и выросший в суровом краю, на берегу Белого моря, — герой.
«Тихие герои» — так окрестил я про себя всех встреченных мною, и вот теперь, на катере, сидя под горячим солнцем на верхней палубе, я не переставал вспоминать их и восхищаться ими.
В деревне Майде остановился я пожить у веселого краснолицего старика Евлампия Александровича Котцова. С утра до ночи он все что-то делал — то в бригаде, то возле своего дома, и всяческие колхозные нормы перевыполнял, и дом его был крепок и ухожен, и весело, завидно было смотреть на него, но и больно, потому что не ходил этот Котцов, а ползал на четвереньках, шурша и постукивая своими культяпками в бахилах.
![Юрий Казаков - Две ночи [Проза. Заметки. Наброски]](https://cdn.my-library.info/books/210606/210606.jpg)